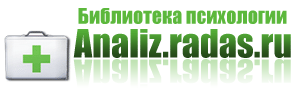| Навигация |
|
|
|
| Авторы |
|
|
|
|
|
|
|
| Карнеги Д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Домой :: архив публикаций (июль - декабрь 2004)
Юрий Борисович Рюриков. Мед и яд любви. (Семья и любовь на сломе времен I)
Душа любви: к другому, как к себе.Минимум любви.
А теперь самое сложное и неясное: в чем суть любви? каждый ли способен любить? и чем любовь отличается от своих родственников?
"У меня какие-то странные отношения с парнем. Я его люблю и знаю, что он меня тоже любит, мы не можем друг без друга, но это любовь по очереди. Она бурно проявляется в тот момент, когда все может разрушиться.
Сейчас я очень привязалась к нему, проявляю свою любовь, а он стал какой-то равнодушный. Но стоит мне предложить расстаться, как мы поменяемся местами. Мы просто изводим друг друга. Получается, как в сказке про журавля и цаплю. Как же быть? Выходит, не надо проявлять свою любовь?" (Куйбышев, политехнический институт, апрель, 1980).
"Раскольников и Соня полюбили друг друга, познав страдания. Может быть, многим нашим современникам не хватает самопожертвования? Ведь единственные дети часто бывают подсознательно эгоистичны". (Дом культуры МГУ, февраль, 1982).
"У нас был спор. Одни утверждали, что эгоист неспособен любить, другие говорили, что способен, просто его любовь будет эгоистической. Кто прав?" (г. Жуковский, авиационный техникум, декабрь, 1979).
Чтобы понять все это, надо, наверно, понять, что такое минимум любви, с какого порога она начинается.
В чем простейшее проявление любви? Когда мужчину и женщину влечет друг к другу? Но это может быть и телесное тяготение, и уважение, признательность, благодарность...
Может быть, минимум любви в сплаве телесных и духовных влечений? Но любовь юношей и еще чаще девушек бывает и платонической, а в любви пожилых людей телесные ноты приглушены, а то и совсем беззвучны.
Может быть, минимум любви это желание делать другому приятное, заботиться о нем? Но оно есть и в дружеском чувстве, и в родственной любви, особенно старшего к младшему отца и матери, дедушки и бабушки, тети и дяди...
Вокруг любви скопилась тьма предрассудков и полуистин, и часто, к сожалению, они кажутся нам букварными истинами. Вот, например, мнения-соперники, в которые верят очень многие: любовь эгоистична пожалуй, чаще так думают мужчины; любовь альтруистична пожалуй, чаще так думают женщины.
Большинство из тех, кто писал о любви с древности и до наших дней, были глубоко убеждены, что любовь пропитана альтруистическими чувствами. Но, по-моему, любовь так же далека от альтруизма, как она далека от эгоизма.
"Как это так? Если любовь не верх альтруизма, то какое же из чувств его в этом превосходит?" (Куйбышев, Дворец спорта, апрель, 1980).
"Вы пишете, что любовь враг эгоизма и альтруизма, что она стремится к равновесию двух сердец и не терпит ничьего перевеса. А как это может быть в самой жизни, в реальных отношениях его и ее? Ведь в каждом человеке есть перевес или эгоизма или альтруизма, и значит, такой же перевес есть в их чувствах и отношениях" (Павел С-й, Пятигорск, август, 1979).
Хорошо, когда спор идет вокруг сложных и запутанных вещей особенно если эта сложность появляется вдруг на месте привычных аксиом. Есть разные виды спорности: одна идет от бедности самой мысли, другая от бедности в ее восприятии. Иногда спорность мысли говорит, что эта мысль устарела, иногда что она нова, непривычна. Все это, видимо, и помогает прояснить споры, и поэтому чем больше их и чем они глубже, тем лучше для истины, а чем их меньше и чем они мельче тем легче полуистине выдать себя за истину.
Многие, кстати, думают, что альтруизм, самоотречение наилучшая противоположность эгоизма. Но и альтруизм (от лат. "альтер" другой) и эгоизм (от лат. "эго" я) оба стоят на сваях неравенства; только эгоизм это вознесение себя над другими и умаление других, а альтруизм вознесение других над собой и умаление себя.
Конечно, забота о других в ущерб себе может быть высшим видом человечности особенно в опасности, или в уходе сильного за слабым, или когда человек отдает от своего избытка чужой нехватке (а тем более когда отдает от своей нехватки)... Самоотказ благодатен, когда он уравнивает неравное, создает равновесие в колеблющихся отношениях с другими людьми. Но если самоотказ выходит за рамки равенства, то он ведет к самоумалению, делает человека кариатидой, которая держит на себе других людей.
Речь идет не о самопожертвовании, высшем виде самоотказа: оно тоже бывает благодатным, но только в исключительных, драматических условиях; кстати, им движет не закон равенства с другим человеком, а закон предельного неравенства закон самоуничтожения ради спасения другого.
Пожалуй, наилучшая противоположность эгоизма это равновесие своего и чужого "я", стремление не возносить себя над другими и других над собой, а относиться к другим как к себе самому. Это, наверно, первичная клеточка гуманизма, его психологическая основа, и она родственна любви...Чем отличается любовь от влюбленности.
"Но как отличить настоящую любовь от временного увлечения или тем более влечения?" (Новосибирск, НЭТИ, декабрь, 1976).
Человеческая любовь по самой своей природе тянется к равновесию двух "я" хотя бы примерному, колеблющемуся. Пожалуй, такая тяга в сплаве с наслаждением чувств это сама суть любви, сама ее психологическая материя. Основа всех видов человеческой любви, как бы глубинная ось ее чувств это отношение к любимому человеку как к себе самому: такое состояние души, когда все в нем так же дорого твоему подсознанию, как ты сам.
А чем отличается от любви влюбленность? К сожалению, об их глубинной разнице почти молчит психология, и лишь внешними касаниями говорит искусство. Пожалуй, в мировой литературе есть только один эпизод, в котором по-настоящему уловлена эта разница, хотя и тут она не осознана как разница влюбленности и любви. Это сцена из "Войны и мира", когда Андрей Болконский признается в любви Наташе Ростовой, получает ответное "да" и в душе его вдруг разыгрывается мгновенный и загадочный переворот: влюбленность делается любовью.
"Князь Андрей держал ее руку, смотрел ей в глаза и не находил в своей душе прежней любви к ней. В душе его вдруг повернулось что-то: не было прежней поэтической и таинственной прелести желания, а была жалость к ее женской и детской слабости, был страх перед ее преданностью и доверчивостью, тяжелое и вместе радостное сознание долга, навеки связавшего его с нею. Настоящее чувство, хотя и не было так светло и поэтично, как прежде, было серьезнее и сильнее".
Влюбленность, которую питал к Наташе Ростовой князь Андрей, как бы состояла из одного только "психологического вещества", из "поэтической и таинственной прелести желания". И как почти всякое желание, эта влюбленность была я-центрическим чувством, чувством для себя.
Пройдя сквозь мгновенное превращение, влюбленность стала другим чувством, гораздо более сложным и двуцентричным, не только для себя, но и для нее. К чувствам для себя добавились чувства для нее, переживания за нее жалость к ее слабости, страх перед ее преданностью и доверчивостью, тяжелое и радостное сознание долга, которое связало их новой связью... Безмятежность прежнего чувства затмилась, оно стало тревожнее, тяжелее и от этой своей тяжести ушло в самые глубины души.
Много веков в нашем обиходе царит мнение, что любовь сильнее, а влюбленность слабее, что они отличаются друг от друга своим накалом. По-моему, это не так: дело не в силе, не в "количестве" чувства, а в его "качестве". Влюбленность может быть и более сильной, чем любовь, но она я-центрична, а то и эгоистична; именно поэтому она мельче проникает в душевные глубины человека, а от этого меньше меняет его и быстрее гаснет.
Любовь, видимо, отличается от влюбленности прежде всего здесь. Неэгоизм и двуцентричность любви это ее самая глубокая основа и главный водораздел, который отделяет ее от влюбленности.
Любовь это как бы перенесение на другого своего эгоизма, включение другого в орбиту своего я-центризма. Это как бы удвоение своего "я", появление другого "я", с которым первое срастается, как сиамские близнецы.
Поэтому, наверно, любовь и поражает человека глубже влюбленности, поэтому она и заполняет все закоулки его подсознания, все тайные уголки души. И поэтому она дольше живет в человеке и больше меняет его.
Чужое "я" как бы входит в ощущения человека, и чужая боль делается такой же большой, как своя, а чужие радости такими же радостными...
Вырастает как бы "эгоистический альтруизм", совершенно особое чувство. Изъяны эгоизма и альтруизма (вознесение своего "я" над чужим и чужого над своим) как бы уменьшают, растворяют друг друга в этом сплаве. А их достоинства (сила заботы о себе и сила заботы о других) как бы помножаются, резко усиливают друг друга. Возникает дорожение другим человеком как собой, его интересами как собственными.
Можно, пожалуй, сказать, что любовь это влюбленность, построенная на "эгоальтруизме". И минимум любви это такое любовное влечение, в котором есть тяга к равновесию двух "я", глубинное дорожение другим, как собой. В разговоре Андрея Болконского с Наташей видно, как вдруг из простой влюбленности рождается такое глубинное тяготение, такой "минимум".
Если же в самой плоти чувств нет тяги к равновесию двух "я", то это, наверно, не любовь, а какой-то ее более бедный родственник привязанность, влечение, влюбленность, или любовь, которая уже начала угасать.
Потому что когда срастание двух "я" начинает уменьшаться, это уменьшается сама сердцевина любви, а не просто ее накал, спадает не только ее "количество", но и "качество". Потому что пылкое дорожение другим, как собой, подсознательное переживание каждого его шага, как своего это и есть сама эмоциональная материя любви, сама ее плоть и суть.
Такой подход к любви, по-моему, гораздо вернее, чем старый, привычный; он помогает увидеть глубинное своеобразие любви, не смешивает любовь с ее родственниками и позволяет этим гораздо вернее понимать человека и его чувства.Эгоальтруизм.
Наука этика и обиходная мораль убеждены, что у человека есть только два внутренних двигателя эгоизм и альтруизм. Но есть и третий такой двигатель эгоальтруизм, тяга к равновесию своего и чужого "я".
Почему мы не видим его? Возможно, потому, что ни в одном человеческом языке нет слова, которое обозначало бы такую тягу к равновесию своего и чужого "я". И как младенцы не замечают вещь, название которой они не знают, так и мы не замечаем, что порывы к равновесию движут нами не меньше, чем порывы эгоизма и альтруизма. Мы ведем себя, как мольеровский мещанин во дворянстве, который не знал, что говорит прозой, пока ему не сказали этого.
Впрочем, еще наши далекие предки понимали, что отношение к другому, как к себе один из главных идеалов человечества. Этот идеал был письменно запечатлен еще в VI-V веках до нашей эры в разных концах мира в Индии и в Китае, в Иудее и в Греции. "Не делай другим того, что не хочешь для себя" так учили Конфуций и Будда, Сократ и другие греческие мудрецы, так говорилось и в Ветхом завете. Потом этот принцип перешел в христианство, его проповедовал в Нагорной проповеди Иисус Христос: "Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними" (Евангелие от Матфея, гл. 1, ст. 12).
Но, видимо, древние философы и основатели религий не были первооткрывателями этого принципа. "К другому, как к себе" это общечеловеческая норма личных отношений, и можно предположить, что она родилась на тысячелетия раньше, в золотом веке родовой коммуны. В отношениях сородичей, видимо, царила тогда душевность она поражает и сейчас в тех племенах Индии и Южной Америки, где сохранились нравы матриархата . Впрочем, тяга к равновесию своего и чужого "я" правит бытом многих племен, которые стоят сегодня на первобытной ступени.
Большинство этнографов считает, что матриархата как всеобщего устройства общества не было. Но, возможно, матриархат существовал у некоторых племен, и высокое положение женщин возвышало в этих племенах нравы, насыщало их душевностью.
Почвой этого первобытного гуманизма было равенство и единство людей общины. Только такой дух мог помочь нашим предкам выстоять в борьбе со стихиями а главное, стать людьми.
Когда социальное равновесие ушло из жизни, забылся и этот принцип. Позднее о нем вспоминали, говорили, но как о чем-то внешнем для человека идеале отношений, "золотом правиле морали". Как о внутренней пружине человеческой психологии, двигателе чувств и поступков о нем не говорил никто. Потому-то, видимо, ни в одном языке земли и не появилось название для этого принципа.
Впрочем, этому можно и не очень удивляться. Термины "эгоизм" и "альтруизм" тоже недавние, оба они возникли во Франции, причем альтруизм только в XIX веке его ввел философ Огюст Конт, основатель социологии. Примерно тогда же стали искать название для чувства равновесия. В России, например, Чернышевский писал о "разумном эгоизме", а уже в наше время канадский физиолог Селье, основатель учения о стрессе, говорил об "альтруистическом эгоизме".
Пожалуй, можно бы сказать, что эгоальтруизм именно человеческая норма, главное свойство человеческой психологии, а эгоизм и альтруизм как бы недорастание до этой нормы.
Эгоизм и альтруизм одномерны, состоят из одного психологического вещества предпочтения себя или предпочтения других. Эгоальтруизм устроен намного сложнее и из очень многоликого сплетения двух таких веществ. Он растет, видимо, гораздо больше из человеческой психологии, чем из биологии; эгоизм и альтруизм больше растут из биологии, чем из психологии из более простого, более "животного" уровня жизни. Возможно, эгоальтруизм норма для психологической ступени жизни, а эгоизм и альтруизм для биологической ступени.
Слово "эгоальтруизм" тяжеловесное, искусственное, но, как говорят одесситы, лучше плохая погода, чем никакой, и пока не родилось удачное слово, можно, пожалуй, применять это.Однобокость альтруизма.
Много веков говорят, что любовь вся состоит из альтруизма, отказа от себя. Великий Гегель писал об этом: "Истинная сущность любви состоит в том, чтобы отказаться от сознания самого себя, забыть себя в другом "я" и, однако, в этом же исчезновении и забвении впервые обрести самого себя" .
Гегель. Сочинения, т. XIII, с. 107.
Отказаться от себя и тем самым найти себя здесь опять проглядывает "двоичное" понимание человека, мысль, что у него есть только два двигателя эгоизм и альтруизм. Но альтруизм "одноцентричен", как и эгоизм, только центр этот лежит не в себе, а в другом человеке. Альтруистическая любовь быстро делается почти таким же недугом души, как и безответная любовь. "Состав чувств" в ней сдвинутый, усеченный; человеку все время не хватает радостей от встречных забот, у него не насыщаются первородные нужды своего "я" в одобрении, поддержке, ласке. Это рождает невидимые струйки неполноценности, которые подтачивают душу, отравляют чувство.
"Но как можно выступать против альтруизма лучшего достояния людей? Человечество многие тысячелетия искало духовные законы, которые дали бы ему возможность подниматься вверх. Оно не раз убеждалось, что таким единственным законом является альтруизм.
Наиболее ранний источник, который установил это, "Бхагавадгита", потом законы Ману, Будды, Христа. Эти же мотивы полной самоотдачи звучат в словах и делах русских революционеров, и их суть выражена в словах поэта:
Что ты спрятал, то пропало,
Что ты отдал, то твое.
Теперь цитирую вас: "Самоотречение... обесценивает людей, ведет к девальвации личности". А как же многие люди, которые отдали свое здоровье, а то и жизнь на служение людям, культуре и справедливости? Известен непреложный закон, что когда человек отдает все, то в душе, где, казалось бы, должна образоваться пустота, дающий обнаруживает умножение духовных сил... И вместе с этим приходит расширение сознания, что мы видим и в потрясающей работоспособности В. И. Ленина или, скажем, Н. К. Рериха, писавшего до 300 картин в год, и каких картин!
Разве не прекрасны слова индийского философа Рамакришны, обращенные к ученикам: "Когда лотос распускается, пчелы прилетают, чтобы брать из него мед. Пусть же лотос души расцветает так же естественно!. Пусть пчелы расхищают твое сердце, но берегись сделать хоть одну пленницей души твоей!"
А вы на белое говорите черное, а на черное белое. Как у вас рука поднялась на это?
Саша В., 23 года, образование высшее, физтех" (Харьков, сентябрь, 1982).
Дух этого письма, по-моему, глубоко человечен: он запечатлен в блестящем парадоксе Руставели "что ты спрятал, то пропало, что ты отдал, то твое". Верна, мне кажется, и мысль, что чем больше человек отдает себя другим, тем больше умножаются его духовные силы.
Но отдавать себя можно двояко или как равный равному, то есть эгоальтруистически, или снизу вверх, через самоумаление альтруистически. Пожалуй, со всем, что сказано в письме об альтруизме, можно согласиться, но при одном условии: если считать, что это сказано об эгоальтруизме. Скорее всего расхождения у нас не в позиции, не в сути дела, а в названиях, терминах.Самоотречение или самоограничение?
Не буду повторять то, что уже говорилось: да, в кризисных условиях самоотречение это высший вид человечности, а те, кто отдавал свою жизнь на служение людям лучшие люди земли. Больше того, самоотказ это, видимо, вообще идеал поведения в любом кризисе, от семейного до военного: наверно, только поступаясь чем-то в себе, можно найти выход из кризиса, пройти его с наименьшими потерями то есть сохранить себя. Но альтруизм это стремление отдавать, не получая, только отдавать, и в обычных условиях он, видимо, создает в человеке скрытую, неосознаваемую ущербность.
Кстати говоря, лотос Рамакришны не только отдает себя пчелам. Пчелы "взамен" опыляют его, дают ему продление жизни самый дорогой дар, который только может быть на земле. Это не альтруизм одно лишь отдавание, а эгоальтруизм давание и получание вместе, равный обмен дарами...
Говоря упрощенно, эгоист только приемник даров, альтруист только передатчик, а эгоальтруист приемник и передатчик вместе...
Интересно, что в древних индоевропейских языках одно и то же слово обозначало и "брать", и "отдавать". Понятие "передавать от одного другому" еще не разделилось на противоположные полюсы, и эти полюсы брать и отдавать были слиты в тогдашней синкретической психологии. Древние как бы считали, что, отдавая, тем самым получаешь, а получая отдаешь.
Они были настроены на равный обмен дарами. Они смутно верили, что получая что-то от другого, ты получаешь тем самым частицу его самого, которая как бы проникает в тебя. И если ты не отдашь взамен равную частицу себя, ты попадешь в опасную зависимость от другого потеряешь крупицу своей свободы, судьбы, здоровья . Такой "эгоальтруизм" пропитывал многие нравы древних, отпечатывался в их душевной жизни, обычаях, верованиях.
Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1972.
У человека есть как бы струны "я" струны самосохранения, заботы о себе, и струны "они" струны сохранения рода, заботы о других. Если играть только на одних струнах, будет разрастаться, как флюс, одна сторона души и слабеть другая. Пожалуй, только дуэт этих струн рождает в нас "мы" равновесие "я" и "они", только их двухголосие создает здоровую, нормальную психику.
Я-центрические нужды человека двойственны по самой своей сути. Все биологические потребности в еде, самозащите, продлении рода я-центричны, но они нужны для выживания, служат главной естественной опорой жизни. Так же естественны и так же благодатны и психологические я-потребности, о которых тут говорилось, потребности в одобрении своего "я", в заботе, поддержке, внимании.
Насыщаясь, эти потребности дают человеку потоки радостных эмоций, заряжают его здоровой и сильной жизненной энергией. Они служат это исключительно важно фундаментом для высших потребностей человека, психологических и духовных. И чем лучше насыщаются наши добрые я-центрические нужды, тем больше жизненной энергии они несут нашим высшим потребностям.
Здесь и лежит водораздел между светлым и темным ликом я-центрических нужд. Эти нужды хороши, видимо, настолько, насколько они помогают более высоким человеческим нуждам, эгоальтруистическим. Чем меньше они служат таким нуждам, чем больше стараются занять их место в душе человека, тем они вредоноснее для души. Но чем больше они питают собой эгоальтруистические нужды, тем благодатнее они для человека.
У альтруиста угнетены, придавлены самые жизнелюбивые моторы души моторы радости от самого себя главные моторы молодости. Поэтому альтруист как бы живет по законам чужого возраста, заражается старческой нормой, когда первородные нужды своего "я" угасают. Он как бы выключает целый диапазон своих забот о себе и живет лишь одним из обычных для человека двух диапазонов заботами о других.
Альтруизм ампутирует этим чуть ли не половину человеческой личности. А становясь регулятором общества, он делает подозрительным, ненормальным все, что не построено на самоотречении.
Самоотречение несет на себе печать неравенства, эксплуататорства, и, возможно, исторически оно и родилось как рабское чувство, чувство подавляемых людей; впрочем, у него есть и биологические источники и материнский инстинкт самоотречения, и инстинкт сохранения рода, который существует у всех млекопитающих .
См. об этом инстинкте: Эфроимсон В. П. Родословная альтруизма (этика с позиций эволюционной генетики человека). Новый мир, 1971, № 10.
Когда самоотречение выступает главным двигателем человека и общества, оно уродует, обкрадывает их, питая собой неравенство и несправедливость, которые есть в жизни. Самоотречение, альтруизм рождены во время доличностного состояния человека, и человек в их системе не человек, не личность, а всего лишь средство, инструмент для других людей. И если альтруизм издавна считают благом, то, видимо, только потому, что путают его с эгоальтруизмом.
Чем они похожи между собой? В эгоальтруизме тоже есть самоограничение, и оно служит одной из его основ. Человек двойствен, и для гармонии с другими это азбука ему нужен постоянный отказ от чего-то в себе, часто дорогого душе. Эгоальтруист все время старается унять те свои порывы, которые несут зло ему и другим людям. Он отказывается от многих удобств и привычек, которые мешают его более человечным нуждам, не дают созреть более глубоким способностям души.
Но в том, от чего он отказывается, видна решающая разница между ним и альтруизмом. Альтруизм отключает не только наши простейшие потребности, но и кое-какие ключевые, опорные и прежде всего нашу естественную тягу к разносторонности, к развитию всех главных сторон тела и духа. Это как бы сила слабого, который не может справиться с обычной двойственностью человеческой натуры не может поставить я-струны своей души на службу мы-струнам.
Эгоальтруизм не отрекается от ключевых нужд человека и не суживает этим его душу, а углубляет и расширяет ее. Это естественное, здоровое, нормальное состояние человеческой души, состояние, которое как бы ведет человека к гармонии, ладу и внутри себя, и с другими людьми.
Такая неусеченная опора на все самое лучшее в душе, на ее живую и естественную многогранность, пожалуй, и создает самую добрую почву для любви.
"Любовь должна быть сильной и жестокой во всем своем естестве. Так написал в ответ на мою статью юный пограничник, полный романтической веры в смертельный накал этого чувства. Любить может только сильный человек, готовый отдать за любимую жизнь, а при утрате любимой покончить с жизнью, а не искать ей замену" (С. Кулаев, воинская часть, февраль, 1979).
Бывает и такое чувство чувство-самосожжение, чувство-фугас, готовое взорваться в душе и испепелить человека. Но если любовь "должна быть жестокой", может быть, это не любовь? Ведь любовь это антижестокость по всей своей сути, а жестокой, наверно, может быть только мстительная, больная, вывихнутая любовь любовь, которая стала ненавистью.
"Не верю в разговоры о любви, если любовь к одному сочетается с жестокостью к другому. Автор этого письма как будто специально написал его против предыдущего. И подонки склонны к сильным чувствам, настолько сильным, что могут поступиться жизнью. Пусть это будет испепеляющее чувство, но это оборотень любви. Влечение мужчины и женщины только тогда любовь, если это любовь к человеку в этом человеке" (М. Резин, Свердловск, февраль, 1979).
Вспомним то, что здесь говорилось: любовь делает любовью не накал ее чувств, а их суть, характер дорожение другим как собой... Многие, наверно, согласятся, что человеколюбие сердце любви, ее центральная основа, и главное, видимо, что отличает ее от других влечений. Эти влечения могут быть жгучими, изнуряющими, но если в них нет человеколюбия, это еще не любовь, или уже не любовь, или вообще не любовь, а чувство другого ранга влюбленность, привязанность, увлечение...Все ли способны на любовь?
Гельвеций, французский философ XVIII века, говорил: "Подобно лучу света, который состоит из целого пучка лучей, всякое чувство состоит из множества отдельных чувств" .
Гельвеций. Об уме. Пг., 1917, с. 368.
Из каких же чувств состоит радуга любви? Условно, приблизительно в них можно, пожалуй, увидеть два потока. Первый поток как бы "оценочные" чувства: наслаждение и тоска, восторг и ревность, радужное приукрашивание любимого человека, и томительный голод души и тела, и пылкое вдохновение всех других твоих чувств, и бунтующее подсознание, которое хочет быть тираном души... Это чувства в основном "я-центрические", для себя отклик души на то, как насыщаются (или не насыщаются) твои желания, на степень этого насыщения или ненасыщения.
Другой поток как бы "двуцентрические" чувства, для себя и для другого сразу: странное, почти физическое ощущение своей слитности с ним, и ясновидение души, которая как бы ощущает то, что делается в другой душе, и беспокойное желание делать все для любимого человека, пожертвовать собой, чтобы уберечь его... С этим потоком чувств сливаются и чувства из первого потока, окрашиваются в их цвет и тоже как бы выходят за пределы своего "я".,.
И все эти струйки любовных тяготений слиты между собой, все плавно и незаметно перетекают друг в друга, как цвета в радуге. Нет, пожалуй, ничего сложнее, чем запутанная вязь этих любовных чувств, нет ничего таинственнее, чем живые лабиринты их сплетений. Если пристально вглядеться в них, можно увидеть, какими именно чувствами любовь отличается от своих родственников.
"Вы называете себя "амурологом", исследователем любви. Но как же вы можете говорить, что очень многие люди к любви неспособны? Ведь представляете, каким неполноценным себя чувствует человек, неспособный любить! Ведь мы со школы, с детства знаем, что любовь самое светлое чувство, и вдруг "я к нему неспособен"! Вы вот даже признаки неспособности называли слишком большой эгоизм. Это как раз про меня. Не жестоко ли так сразу лишать человека надежды? Значит, я обречен?" (Дом культуры МГУ, декабрь, 1982).
Думаю, что эгоист, пока он остается эгоистом, обречен. У его чувств "я-центрическая" направленность, и если он и испытывает "двуцентрические" чувства те, о которых только что говорилось, то они звучат гораздо слабее "я-центрических", сами подчиняются им.
Как все это происходит, какие именно психологические струны мешают любви? Подсознание эгоиста как бы ощущает себя лучше, выше других людей. Каждое переживание эгоиста строится на микронном самовозвышении и микронном умалении других, каждая эмоция слита из лучика самоукрашивания и лучика обесцвечивания других. Преувеличивая, можно сказать, что эгоизм как бы микрокрупинка от мании величия.
Такая оптика ощущений противоположна оптике любви. Любить это как бы сверхценить другого, причем всеми глубинами души, а эмоции эгоиста сверхценят себя и могут сверхценить другого лишь ненадолго, нестойко.
"Но все-таки, значит, могут? Значит, эгоист все-таки способен на любовь?" (Московский областной пединститут, март, 1986).
Нет, он способен только на влюбленность. Влюбленность это тоже ощущение другого как сверхценности, но оно захватывает только один поток наших чувств, и не самый глубокий.
У человека есть как бы два потока оценочных ощущений. Во-первых, самоощущения ощущения от себя, "я-образ", оценка своего "я" на внутренних весах; во-вторых, ощущения от других людей, их бессознательное оценивание. Причем самоощущения как бы служат фильтром, через который проходят ощущения от других, и они формуют эти ощущения на свой лад: самовозвышение умаляет других, самопринижение возвеличивает, а "равноуважение" возвышает обоих...
Влюбленность как бы вживляет в душу эгоиста новую призму ощущений подсознательную призму, которая возвышает других. Но она вступает во вражду с его главной призмой подсознательным умалением других; в ощущениях эгоиста как бы сталкиваются две оптики, и в их войне чаще побеждает оптика-хозяин, а не оптика-гость.
Здесь, может быть, и лежит разгадка трагической, колдовской любви "Темных аллей" позднего Бунина. Любовь в этих рассказах неотвратимо ведет людей к гибели. Все их чувства обращены на себя, замкнуты в себе, они не могут войти душой в другого и впустить его душу в свою.
Они способны лишь коротко соприкоснуться, на миг втиснуться в чужую душевную жизнь и снова глухая отгороженность, закрытое я-существование без мы-слияния. Любовь бьется изнутри об эти панцирные берега "я" и не может вырваться из них, проникнуть в чужие берега. Это и есть темные аллеи любви аллеи, которые не дают соединиться двум душам и рождают трагическую безысходность: краткие миги счастья и расплату за них, смерть.
"Уже без остатка, как скорпион в свое гнездо, вошла любовь в юношу", написал Бунин в рассказе "Братья". Он считал, что любовь это коридор к смерти, и в этом ее вечная суть. И потому весь он тоскливое недоумение от этой колдовской силы, горечь перед ее скорпионьими чарами.Талант любви: два измерения.
"А может, любовь это все-таки талант, "дар божий"? И даром этим наделены не все люди, так же, как даром художника, изобретателя? И может, надо поменьше говорить о "вседоступности" любви в фильмах, книгах, шлягерах? Тогда бы и не было разочарований у современного человека" (Ленинград, ДК имени Кирова, клуб молодых супругов, февраль, 1976).
Многие, наверно, понимают, что для любви нужен талант чувств, а он есть совсем не у каждого. Но что такое этот талант? Дается ли он только избранным или может быть доступен всем?
Способность любить это нормальная способность нормальной души не сверхспособность, а именно средняя, общедоступная. Каждый здоровый человек рождается предрасположенным к этому нормальному чувству. Но чем старше люди, тем меньше среди них становится таких, кто может испытывать его. У многих не хватает глубины души, нужной, чтобы вместить это глубокое чувство: у кого из-за воспитания, у кого из-за жизненных условий, у кого из-за чрезмерности эгоизма.
Впрочем, если влюбленность у таких людей сильная, она может и стать любовью. Но для этого ей надо внутренне перестроить человека, вырастить в его душе струны эгоальтруизма, которые только и могут излучать любовь. Это требует перелома в себе, долгой и изнурительной перезарядки многих душевных рефлексов, желаний, обыденных пружин чувства, воли... К сожалению, на такую "революцию души" способны немногие.
"А стоит ли заботиться о людях, которые неспособны любить? Вы сокрушаетесь о них да еще хотите, чтобы вместе с вами сокрушалось искусство. Но естественный отбор выбраковывает таких людей, и правильно делает. Не можешь любить не найдешь себе партнера, выгодного для биологической эволюции, не дашь потомства, очистишь общество от неполноценных людей. Неспособность любить это биологический изъян, может быть даже наследственно закодированный, и для человечества очень опасно, когда он передается следующим поколениям" (Полина С-ва, преподаватель вуза, Саратов, июль, 1976).
Многие, наверно, понимают, что это не так. Неспособность любить изъян не биологический, а психологический, душевный. Талант любви это талант души, и он, кстати, в принципе отличается от таланта художника, изобретателя, писателя, ученого.
Главное в таланте любви не редкостные и сложные способности ума, слуха, зрения, памяти способности, из которых состоит художественный или научный талант. Главное в нем именно душевность, сердечность, "человеколюбие" способность дорожить другими, как собой. Это гораздо более доступный талант, и в идеале он, видимо, может быть у каждого нормального человека.
"Как вас понять? Выходит, у кого такого таланта нет, кто неспособен любить тот ненормальный? Не перегибаете ли вы палку и не слишком ли больно бьете по нам?" (Клуб завода "Дзержинец", декабрь, 1981).
Согласен, больно. Но способность дорожить другими, как собой это главная, по-моему, душевная способность человека, центральная человеческая норма. И она служит основой не только любви. Дружба тоже пропитана отношением к другому человеку, как к себе самому .
Это понимали еще древние греки, у которых дружба считалась самым главным человеческим чувством. Аристотель писал в своей этике: "Все дружественные отношения возникают из отношения самого к себе, распространенного на других. (Этика Аристотеля. Спб., 1908, с. 176-177.)
И родительская любовь, и детская любовь к родителям, и другие родственные чувства все они растут из эгоальтруизма. И сама человечность, гуманность, вернее, ее психологическая сторона это тоже понимание, что радость так же радостна другому, как твоя радость тебе, а боль так же больна, как твоя боль. Кстати говоря, о сути гуманизма именно так отзывался молодой Маркс. "...Чувства и наслаждения других людей стали моим собственным достоянием", писал он .
Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 42, с. 121.
Эгоальтруизм сердцевина основных человеческих чувств, главная опора всей человечности вообще. И можно ли считать нормой то, что не дотягивает до этой нормы? Здесь не кто-то бьет человека со стороны: неспособность любить это тот обратный конец палки, которым человек сам бьет себя.
Много лет мы смотрели на себя диетическими глазами, жили в атмосфере парикмахерской осторожности "вас не беспокоит?". В этой атмосфере стало привычкой резкое падение критериев, массовая девальвация норм. Низины начали казаться равнинами, упадок норм нормой, и от этого катастрофического спада требований страдали все люди и все стороны их жизни семья, работа, быт, воспитание, гражданские отношения, искусство...
У таланта любви есть и другое измерение яркость чувств, но оно во многом растет из первого. Конечно, яркость чувств больше всего зависит от темперамента, но сами чувства делаются во многом другими, когда их пропитывает эгоальтруизм. У того, кто влюблен, и у того, кто любит, чувства могут быть одинаково яркими, но их психологическая ткань будет во многом разной.
Эгоальтруизм как бы создает в человеческой душе родники новых эмоций, и из них вытекают особые чувства те двуцентрические чувства, о которых тут говорилось. От нашего темперамента больше зависят как бы "оценочные" ощущения любовные радости и горести, сила их двойной оптики, их накал. Но эгоальтруизм, повторю это, окрашивает и их в свои тона, пропитывает их душевностью, и от этого они становятся глубже, психологически насыщеннее.
Я-центристу такие ощущения, увы, недоступны. Вспомним "любовь по очереди" у "цапли и журавля" из записки. По строю своих чувств она очень похожа на несчастную любовь: в ней гораздо больше горестных чувств, чем радостных. Это как бы неразделенная любовь в маске разделенной: главное в ней драматические вспышки неразделенных, безответных чувств, а между ними вкрадываются антракты спокойных, радостных чувств.
Скорее всего это не любовь, а влюбленность, влечение двух я-центристов. В их чувстве много то ли детского духа противоречия, то ли подросткового отмахивания от родительской ласки, и в каждом из них, пожалуй, это чувство больше держится не на тяге к другому, а на боязни потерять его.Как к себе, так и к другим....
"Я часто ненавижу себя... Как же в этом случае относиться к близкому человеку?" И приписка мелким почерком: "Поэтому мой удел одиночество". (Политехнический, июнь, 1979).
Многие, наверно, понимают: "к другому, как к себе" не значит, что отношение должно быть зеркальным. Относиться к другому, как к себе, значит понимать, ощущать, что его радости так же радостны ему, как твои тебе, а горести так же тягостны. Тогда и появится способность дорожить близкими, как собой обычная норма личной жизни.
Психологи выяснили, что чем человечнее, развитее "я" у человека, тем больше у него подсознательное уважение к себе и к другим людям, и тем глубже это уважение пропитывает все его чувства. У таких людей свежее ощущения, полноводнее чувства, у них чаще бывают состояния взлета, вдохновения, богаче интересы и от всего этого глубже, насыщеннее все личные отношения . Такие люди чаще бывают открытыми, им легко, естественно быть эгоальтруистами, такими же доброжелательными к другим, как и к себе.
Maslоw A. N. Motivation and Personality. N.-J., 1954.
У людей невротических неосознанное самоуважение подтачивается их нервностью, и от этого растет душевная закрытость, замкнутость на себе: ее рождают частые вспышки раздражения, неудовольствия, обиды вереницы нервных уколов, постоянные извержения тягостных чувств.
Чем ниже самоуважение у человека, тем больше он сам страдает от этого и тем больше несет страданий другим. Он подсознательно относится к другим людям точно так же, как к себе, у него меньше доброжелательности к ним, меньше доверия, желания помочь. Всеми его впечатлениями от себя, от других людей, от жизни как бы правит двойная темная оптика. Она добавляет в каждое его впечатление кусочек тени, отнимает кусочек света, и потому все в жизни и он сам, и другие люди кажется такому человеку гораздо хуже, чем есть.
Неуверенность в себе сковывает таких людей, делает их пассивными в личных отношениях. Они (особенно женщины) часто ведут себя не в ключе своего "я", а как зеркало чужого поведения. Если близкий человек внимателен к ним, добр, и они такие же; если он озабочен, сдержан то ли от усталости, то ли от неприятностей они тут же принимают это на свой счет и отгораживаются защитной скорлупой.
Психологи считают, что наше подсознательное отношение к себе, подспудная самооценка это главный эмоциональный двигатель наших чувств и поступков. Ими правит сложнейшая сеть пружин наши потребности, интересы, взгляды, жизненное положение. Действие всех этих пружин как бы сплетается в нашей самооценке, меняет ее, но и само окрашивается в ее цвета.
Глубинная самооценка как бы эмоциональное ядро человеческой души, сердцевина психики. Все наши переживания, все впечатления от жизни проходят сквозь нее, как лучи сквозь линзу; это как бы главная эмоциональная линза, сквозь которую человек видит себя и других.
Для человека естественно быть довольным своими сильными сторонами и недовольным слабыми, и потому нормальная душевная самооценка это всегда сплав довольства и недовольства собой. Чувство неполноценности резко ухудшает эту душевную самооценку и портит все чувства человека к другим людям. Пожалуй, только хорошо относясь к себе, можно хорошо относиться к другим, и только хорошо относясь к другим, можно хорошо относиться к себе.
Поэтому людям, которыми движет двойная темная оптика, стоило бы относиться к близким лучше, чем к себе и в своих поступках, и в чувствах. Но по-настоящему изменить свое отношение к близким они смогут, видимо, только, если перемагнитят, изменят свою оптику, сумеют сделать главными ее светлые слои. Это очень трудный, часто каторжный труд души, но это, пожалуй, единственный путь к спасению...Эвклидова и неэвклидова логика любви.
"А не летает ли любовь к родителям и друзьям любви к любимому человеку? Ведь эмоциональная чувствительность человека не бесконечна и сила чувства к любимому уменьшается" (Новосибирский академгородок, ДК "Академия", апрель, 1978).
Эти мысли рождены, наверно, и обычной житейской логикой, и логикой формальной, арифметической. По такой логике у человека есть свой запас чувств, и когда он делится на разных людей, то каждому и достается меньше. Но любовь если это любовь не подчиняется здесь ни житейской, ни арифметической логике никакой линейной логике вообще.
В пылкие времена своей любви любящие часто поражаются: еще вчера я любил ее на пределе, но почему-то сегодня люблю еще сильнее, а завтра еще сильнее... Как можно влить в сосуд больше, чем он вмещает? Простейший здравый смысл говорит, что это невозможно...
Но любовью правит неэвклидова логика, как бы логика наоборот, логика парадокса, и она вся состоит из неожиданностей, из ходов, которые обратны очевидным.
Как можно любить больше предела? Парадокс здесь в том, что чем сильнее человек любит, тем больше вырабатывается в нем энергия любви то есть тем выше поднимается ее предел: сегодня он выше, чем вчера, завтра выше, чем сегодня.
Но, пожалуй, такая сверхлогика правит только счастливой любовь, которая отодвигает свой предел, поднимает его. Как только любовь замирает, она, видимо, начинает умирать из счастливой постепенно делается обычной, потом обыденной, будничной и начинает тускнеть, перемежать огоньки с угольками, пеплом, золой...
Говоря точнее, у любви есть как бы три ступени, три возраста: нарастание подъем ее предела, устойчивость жизнь у предела, и угасание, спад.
Длина этих возрастов может, видимо, быть самой разной. Чем дольше нарастание любви ее детство и юность, тем дольше бывает и ее второй возраст зрелость, и тем позже она начинает стареть, входить в свой третий, предсмертный возраст. Чем быстрее кончается юность любви, тем короче и ее взрослость и тем быстротечнее ее старение и умирание... Это, пожалуй, главная пружина долгой или короткой жизни любви.
Видимо, в разных возрастах любовью управляют и разные законы: растущей, счастливой любовью "надземные", неэвклидовы законы парадокса; угасающей законы житейской логики; устойчивой смесь тех и других законов, причем с постепенным ослаблением "надземных" и усилением земных.
По-разному в этих возрастах действуют друг на друга и разные виды любви супружеская любовь и, скажем, любовь к родственникам, друзьям. Речь идет именно о любви; влюбленность, видимо, почти всегда соперничает с другими чувствами, уменьшает их или сама уменьшается ими.
Известно, что, когда у молодоженов появляются дети, их тяга друг к другу часто слабеет ею как бы начинает править именно арифметическая логика: каждый отдает теперь чувства не одному, а двоим, и потому каждому достается "половина" прошлого чувства.
Но, может быть, это не любовь? Счастливые супруги в один голос утверждают: любовь к детям не ослабила, а усилила нашу любовь. Мы увидели друг друга с новой, родительской стороны, открыли друг в друге новые достоинства, и они углубили наше влечение.
Есть, видимо, психологический закон: одна любовь обогащает, а не обедняет другую, и разные виды любви не соперники, а союзники. Их энергии родственны друг другу, и они как бы подпитывают, усиливают друг друга своими зарядами.
Впрочем, поначалу, в своем дебюте, любовь, как и влюбленность, ослабляет другие чувства, захватывает чужие участки души. Как река весной, она выходит из берегов, и ее половодье отбирает много энергии у других чувств.
Потом, когда половодье кончается, любовь начинает отдавать другим чувствам ту энергию, которую она у них забрала, и даже с лихвой. Она как бы встраивает в них новые октавы, и от этого их звучание делается глубже, переливнее.
К сожалению, так бывает нечасто, но, пожалуй, не потому, что у запаса чувств есть предел. Вернее, такой предел есть у я-центрических чувств, и этим они отличаются от любви. Любовь, повторю это, может "по закону реки" отодвигать свои пределы, и хотя это тоже бывает очень редко, но виноваты здесь, видимо, не законы любви, а враждебные им законы жизни, которые не дают им раскрыться, укорачивают жизнь любви...Музыка для скрипки и балалайки.
"У Моруа есть мысль: любовь зависит больше от самого любящего, чем от предмета любви. Какую роль играют внутренние источники любви?" (Встреча с работниками Интуриста, июнь, 1979).
Андре Моруа, современный французский романист, писал, что "источник любви скорее в нас, нежели в любимом существе", и что после Стендаля эта мысль стала азбучной . Но для Стендаля таким внутренним источником любви была человеческая фантазия, которая украшала любимое существо несуществующими достоинствами. По его мнению, порождала любовь именно фантазия, то, что я называю двойной оптикой. Любить могли как бы "романтики чувств" те, у кого есть эта романтическая способность приукрашивать, и не могли "реалисты чувств". Способность любить выводилась из важной, но не главной стороны души.
Моруа А. "Надежды и воспоминания", М., 1983, с. 244.
В середине нашего века Эрих Фромм, крупный американский философ, сделал тут важный шаг вперед. В книге "Искусство любить" он выступил с глубокой и новой теорией любви. "Любовь, говорил он, это главным образом отдавание, а не получание". "Давание это высочайшее проявление силы... Я ощущаю себя изобильным, тратящим, живым, счастливым. Отдавание более радостно, чем получание".
"Art of Loving", N.-I., 1956.
Видимо, во многом он прав. Получает потребитель в человеке, отдает творец; причем не просто отдает, а отдает с радостью только тогда это отдача-творчество. Отдавание без радости подневольное или альтруистическое это просто исполнение долга, повинность. Радостное отдавание это душевное творчество, и именно этим оно и радостно. Тут лежит, видимо, психологический закон всякого творчества, и он отличает творчество от нетворчества.
Пожалуй, творец в корне отличается здесь и от собственника. Главная потребность собственника я-центрична, ему надо, чтобы своими вещами владел только он. Главная потребность творца прямо противоположна: ему надо, чтобы его идею, книгу, машину признало как можно больше людей, чтобы она вошла в их жизнь, стала не только его, но и их собственной. Дело собственника брать, творца отдавать; в идеале собственник хотел бы, чтобы вся чужая собственность стала его, а творец чтобы его "собственность" стала всеобщей.
Впрочем, в словах Фромма есть и однобокость, когда он безоговорочно ставит получание ниже отдавания. Их естественная гармония от этого ускользает, двуединое стремление человека "создавать" и "потреблять" как бы рассекается пополам.
А ведь вся диалектика, вся сложность жизненной гармонии как раз и состоит в каком-то равновесии давания и получания. На подсознательной тяге к такому равновесию, хотя бы примерному, маятниковому, построена вся человеческая природа. Здесь, видимо, действует тот же закон встречных потоков, который правит любым обменом веществ от простейшего биологического до самого сложного душевного и духовного.
В чем стержень фроммовской философии чувств?
Любовь для Фромма не просто чувство, это прежде всего способность любить, то есть отдавать другому силы своей души. "Это активная забота о жизни и росте того, что мы любим", это особое состояние души человеколюбие и жизнелюбие: "Если я люблю человека, я люблю людей, люблю мир, люблю жизнь". Способность любить это глубинное свойство активной и доброй души, часть ее всеобщей любви к миру, к жизни. Это не луна, которая отражает чужой свет, а солнце, которое светит само.
Но люди не понимают этого, говорит Фромм, они считают, что любовь "вызывается объектом любви, а не способностью любить" . Они как бы извлекают источник любви из себя и помещают его в другого ищут нужный им "объект", а не растят в себе способность любить. Они ведут себя как человек, который хочет научиться рисовать, но не учится, а ждет подходящую натуру.
Fromm E. The Art of Loving. Bantam Books. N.-I., 1967.
Фромм, очевидно, прав: способность любить дается именно добрым состоянием души, активной настроенностью характера тем, что названо здесь эгоальтруизмом. Если этого нет, никакой "объект" не разбудит в человеке любовь. Балалайка не создана для глубокой музыки, и какие бы скрипки ни возникали перед ней, она не сможет сравниться с ними.
Пожалуй, только глубокая душа, и только в счастливой любви, способна породить океаническое чувство, как его называют, чувство слияния с другим человеком, чувство проникновения в странный мир, в котором все земное выглядит преображенным, подсвеченным, окрашенным в "надземные" цвета.Океаническое чувство.
Возможно, тут, в этих взлетах счастливой любви, и проступает самая скрытая суть любви, ее глубокая и только сейчас начинающая проявляться всечеловеческая роль.
Любовь земное, но и словно бы надземное чувство, самое вселенское из земных чувств. Она как бы дает ощущениям человека невесомость от земных законов, от пут житейского тяготения.
Эту странную силу любви с изумлением ощущают Роберт Джордан и Мария, герои хемингуэевского романа "По ком звонит колокол". Их трагическая любовь начинается на пороге гибели (они воюют против фашистов), и в одном из апогеев любви они испытывают поразительное чувство: "Время остановилось, и только они двое существовали в неподвижном времени, и земля под ними качнулась и поплыла".
Время, которое остановилось, и земля, которая поплыла, все здесь наоборот, и такой двойной парадокс ощущений бывает, наверно, только в очень сильной любви. И это двойное чувство как бы отзвук странного "переворота ценностей", когда любовь делает вдруг людей и мир соразмерными, равными по масштабу. Чувство, что они двое парят в неподвижном времени, что они частица всего, что есть в этом времени, это, видимо, смутный прорыв в чувство "всечеловека", мировой величины, мгновенный, на несколько секунд, выход в странные, почти космические ощущения...
Любовь дает им сильнейшую тягу к слиянию, к полному тождеству друг с другом. И Мария, эта простая сельская девочка, испытывает странные чувства и говорит Роберту: "Ты чувствуешь? Мое сердце это твое сердце... Я это ты, и ты это я... Ведь правда, что мы с тобой одно?"
И это тоже одно из самых сильных озарений их любви. "Я это ты", "я в тебе, а ты во мне" это странное "андрогинное" чувство родилось, видимо, как эхо того душевного слияния, которое дает им любовь. Это чувство-иллюзия, чувство-мираж, которое, конечно, никогда не сбудется, но оно принадлежит, наверно, к тем обманам зрения, в которых есть кусочки прозрения.
Что такое все эти неясные, какие-то "философские чувства" чувства слияния друг с другом, с временем, с пространством? Возможно, Хемингуэй наткнулся на новый класс любовных чувств, которых мы до сих пор не замечали самых первородных и потаенных, о чьем смысле мы сейчас можем только гадать. Впрочем, изредка эти странные чувства испытывали и до него. В XIX веке Жуковский любил безнадежной любовью Машу Протасову, и он писал ей:
Тобою чувствую себя:
В тебе природой наслаждаюсь.
Возможно, это и есть океаническое чувство чувство своего слияния с человеком или с миром, ощущение себя как частицы чего-то вселенски огромного то ли времени, то ли пространства, чувство океанической глубины и неразгаданности, в которое мы только сейчас начинаем заглядывать...
Метерлинк, великий бельгийский поэт и драматург, автор "Синей птицы", как-то сказал: "Быть может, мы еще не знаем того, что выражается словом любить... Любить не значит только жалеть, только всецело собой жертвовать для счастья других, это нечто в тысячу раз более глубокое, чем могли бы выразить человеческие слова самые нежные, самые стремительные и сильные. Минутами кажется, что эта любовь мимолетное, но до глубины пронизывающее нас воспоминание о великом первобытном единстве" . Метерлинк М. Полн. собр. соч., т. 2. Пг., 1915, с. 85.
Любовь и "сверхсознание".
Мужчину и женщину притягивает, сближает, соединяет то, что они мужчина и женщина; но, сближая, это и отдаляет их, ставит разделительные барьеры.
Мужчина не может до конца понять женщину, женщина не может до конца понять мужчину; эти преграды лежат, видимо, в самой их глубинной природе. У них разное строение тончайших воспринимающих призм души: в женщине сильнее работают эмоциональные призмы, чем рациональные, в мужчине сильнее рациональные, чем эмоциональные.
Поэтому, наверно, и вся оптика ощущений у них разная, и они со сдвигом акцентов воспринимают одно и то же женщины с перевесом эмоциональных слоев восприятия над рациональными, мужчины с перевесом рациональных над эмоциональными. Все в жизни видится им одинаково и смещенно, в похожем и в разном свете, разном то в оттенках, то в главных тонах; и это смещенное зрение рождает у них частые вереницы непонимания.
И только любовь и то, пожалуй, лишь в моменты своего взлета поднимает мужчину и женщину над разделительными барьерами и единит, сливает их до конца. Она как бы встраивает в них новые глаза глаза озарения, наития, поднимает их воспринимающие аппараты выше их пределов лечит изъяны человеческой природы, как говорил еще Платон.
В сильной любви мужчина и женщина как бы обмениваются друг с другом сильными сторонами своих восприятий яркой эмоциональностью и аналитичностью. В них как бы вливаются дополняющие друг друга достоинства мужского и женского восприятия и уменьшают друг друга их противоположные слабости нехватка аналитичности у женщин и нехватка эмоциональности у мужчин. Любовь словно бы возносит людей над их природными потолками, ставит их пусть на время выше непреодолимых пределов.
В Древнем Китае мужскую энергию называли ян, женскую инь. Можно, пожалуй, предположить, что в инь относительно больше эмоциональных зарядов, чем рациональных, а в ян наоборот больше рациональных; возможно, и сама энергия эмоций у них разная в ян больше вихревого напора, подвижности, громче звучат боевые струны, а в инь сильнее струны мягкости, покоя, малоподвижности...
И, обмениваясь потоками любви, мужчина и женщина как бы заряжают друг друга чужой энергией, восполняют односторонность своей энергии вкраплениями чужой, создают, хотя бы на время, как бы андрогинную энергию, энергию-сплав инь-ян. Этот сплав освобождает их восприятия от "половой половинчатости", рождает новое, как бы надполовое восприятие, восприятие "всечеловека"...
У него, видимо, есть особая интуиция не обычная подсознательная, а куда более сильная, как бы "надсознательная", "сверхсознательная" . Сверхсознание это, наверное, плод глубинного союза между сознанием и подсознанием, дитя их слияния, парной работы. Это плод андрогинного союза обоих мозговых полушарий, образного и логического, плод их со-энергии, дитя их сдвоенного и поэтому учетверенного по силе проникновения в суть вещей.
Сверхсознание термин Станиславского, о нем глубоко и по-новому пишет известный психофизиолог П. В. Симонов в книге "Человек. Личность. Темперамент" (М., 1984).
Сильная любовь как бы делает Я равным Ты; "Я это ты, ты это я, к другому как к себе" все это не только метафора, но и парадокс, который бывает отчасти и на самом деле. Счастливая любовь ломает самые упрямые барьеры между людьми, она как бы воплощает в жизнь пусть мимолетно самые несбыточные утопии. Она на самом деле создает андрогинное "мы", но, конечно, психологическое, психоэнергетическое, не телесное. И в этом слиянии двух Я в одно Мы и состоит, видимо, скрытая вселенская сила любви.
У людей, которые счастливы глубоким счастьем, вырабатывается как бы "сдвоенное я", как это было у Левина и Кити, Роберта Джордана и Марии. Такое удвоение себя другим "я" самый, пожалуй, реальный мираж, который бывает в счастливой любви.
В последнее время начинает проясняться, что сверхсознание это, очевидно, высшая у людей творческая сила, основной инструмент открытий. Возможно, это главная сила в нас, которая первой прорывается в неведомое, в новые слои знаний.
И способность любить тоже, видимо, высшая человеческая способность: это именно творческая способность души, которая лежит у верхних пределов человека, на вершине его возможностей. Любить это ведь значит ощущать другого как мировую величину, как олицетворение человеческого рода, и творить ему счастье, относиться к нему на пределе человечности со сверхзаботой, сверхвниманием, сверхдобротой.
Двойная оптика любви выступает здесь своей парадоксальной, неожиданной стороной. Когда наши чувства ощущают любимого как центр мира, то с житейских позиций это просто обман зрения. Как говорил язвительный Бернард Шоу, "любовь это грубое преувеличение различия между одним человеком и всеми остальными" .
Xьюз Э. Бернард Шоу. М., 1968, с. 156.
Но, может быть, когда мы ощущаем любимого как мировую величину, у этого ощущения есть и "наджитейский" смысл? Может быть, это как бы эмоциональный телескоп, и он в натуральную величину показывает то, что мы обычно не видим неповторимость, единственность каждого человека, бесценное для него значение его собственной жизни?
Возможно, это как бы зеркало его человеческой незаменимости, как бы эхо его жизненной неповторимости. Впрочем, не только его: видимо, это еще и эхо нашей собственной неповторимости. Видя в другом центр мира, мы бессознательно вкладываем в него и свое чувство единственности.
Пожалуй, ощущение любимого мировой величиной это и громкое эхо от тихого шепота от неосознанного ощущения своей жизни как сверхценности, абсолютной ценности. Это как бы психологическое эхо от биологической жажды жить, биологического наслаждения жизнью первейшего, пожалуй, фундамента всякой жизни.
Любимый на весах любящего делается как бы бесконечностью бесконечной ценностью, его ощущают как частичку, искорку "абсолюта" то есть частичку наивысшей ценности, которая остается наивысшей на любых весах. И возможно, любовь единственное зеркало, в котором пусть странно, но видна эта настоящая цена человеческой жизни...
Впрочем, это касается и других видов любви родительской любви к детям и детской любви к родителям. Возможно, все эти чувства таят в себе прорыв в какие-то очень глубокие прозрения, к первоисточникам жизни, к ее коренному смыслу; возможно, этот смысл скрыт от наших обыденных ощущений и проблескивает только в моменты любви...Две сути любви и ее социальная роль.
Наверно, во всякой любви есть и явные, обыденные чувства, и тайные, смутные, загадочные ощущения. Любовь двояка везде и во всем, у нее всегда есть провалы и взлеты, и в ее обычной, будничной жизни есть, пожалуй, и надземные вершины, и подземельные пропасти.
"Можно ли обуздать любовь? Подчинить ее Разуму, внутреннему голосу совести? Ведь тогда исчезнут многие преступления на земле... Могут ли это понять мужчины? Могут ли это понять женщины? Если да, то почему многие женщины втайне гордятся преступлениями, которые совершили влюбленные в них мужчины?
И вообще совместимы ли Любовь и Разум? (Ленинград, центральный лекторий "Знания", август, 1980).
Наверно, пока природа человека останется теперешней, наши чувства всегда будут двоякими разумными и антиразумными. Чем слабее чувство, тем оно покорнее разуму, а чем сильнее, тем непокорнее, самостоятельнее, это, видимо, закон нашей психологии.
Любовь и разум живут в союзе друг с другом, только если любовь живет в союзе с миром. А когда любовь уязвлена, когда в нее закрадывается трещина, между любовью и разумом тоже возникает трещина. Наверно, и в самом идеальном будущем любовь и разум всегда будут в разладе, если любовь будет терпеть ущерб, опасаться за свою жизнь.
Человеческие чувства механизмы куда более древние, чем разум, они куда более укоренены в биологию. Не в пример разуму, ими куда меньше движут спокойные пружины и куда больше бурные, взрывные пружины, которые коренятся и в светлых, и в темных зонах нашей души.
Что касается преступлений, то в конце XIX века известный тогда французский юрист, исследователь судебной психологии, писал: "Любовь, которая играет такую важную роль в жизни и в литературе, занимает первое место также и в статистике преступлений и самоубийств... Мифологические стрелы Амура превратились в настоящие кинжалы и револьверы, которые в буквальном смысле слова пронзают сердца" .
Луи Проаль. Любовь и преступление. Общественно-психологическое исследование. Спб., 1901, с. 4, 6.
И в наше время уязвленная любовь, пусть реже, но все-таки часто толкает людей на преступления. По данным МВД, четверть всех убийств происходит у нас на семейной почве: убивают друг друга муж, жена, родственники .
Об этом сообщил министр внутренних дел в "Литературной газете" от 29 августа 1984 года. В США на семейной почве происходит 40 процентов убийств (Л. Я. Гозман. Психология эмоциональных отношений. М., 1987, с. 66).
Впрочем, на преступления, наверно, куда чаще толкает не уязвленная любовь, а чувства более отчаянные и низкие. Если же это не самозащита, не взрыв отчаяния, а злобная месть, надо, чтобы в преступнике еще до этого погиб человек, а с ним и способность любить. Любовь, наоборот, в большинстве случаев оберегает людей от преступления. Но бывает, что любовь только что рождается в человеке, только начинает перерастать из влюбленности в любовь. Она еще не успела перестроить человека, и взрыв отчаяния может ввергнуть его в кризис, отдать его в плен диким, черным пружинам его души. И то же самое, наверно, может быть с человеком слабых устоев. Кризис отчаяния агония гибнущей любви может взломать в нем нестойкие засовы разума, подчинить его извержениям темных чувств.
Любовь в этом ее светлая суть влечет человека вверх, а уязвленная любовь в этом ее темная суть может тянуть человека вниз. В уязвленной любви часто, видимо, сплетено высокое и низкое, светлое и темное, "над-человеческое" и "недо-человеческое".
Любовь не только взлет в такую свободу, которую человек никогда не ощущал, в свободу седьмого неба, экстаза, свободу от земной обыденности. Это и рабство плен у любимого человека, сверхзависимость каждого шага твоей жизни от каждого его шага. Это как бы рабство в свободе и свобода в рабстве смешение как будто бы несмесимых крайностей.
Как в плазме, четвертом состоянии вещества, все смешано, сорвано со своих орбит, так и в любви, как бы огненной плазме чувств, смешиваются, слипаются несовместимые полюсы. Любовь как бы окунает человека в первоосновы жизни, в ее первоистоки в сплетение первичных полярных кирпичиков, из которых состоит жизнь.
"Еще 20-30 лет назад любовь нередко подвергалась дискриминации в нашем общественном мнении. На нее мало обращала внимание литература, ее почти не замечали по-настоящему в драматургии, в кино, а если она и встречалась, то как своего рода эмоциональный гарнир, добавка к действию. Критики нередко обрушивались на произведения о любви, говоря, что это мелкая тема и надо писать о главном, а не о побочном в жизни. Поэт Борис Слуцкий писал тогда: "Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне". С тех пор положение изменилось, но в чем причина этих гонений на личные чувства?" (ФИАН Физический институт Академии наук, 1978).
Верно, положение сейчас изменилось, внимания к любви стало гораздо больше и в искусстве, и в печати, но, к сожалению, внимание это часто бывает поверхностное, ручейковой глубины.
В расцвете госсоциализма, в 30-80-х годах человек был всего лишь средством для достижения государственных целей. Тогда считалось, что все силы надо бросить в производство и общественные отношения, а остальное придет само. Подход к человеку был в тогдашней идеологии частичный, антигуманный не как к человеку, личности, а как к безликому работнику, колесику и винтику социального механизма.
Поэтому и считались в нем важными прежде всего деловые и общественные черты, а все личное то есть огромное измерение всей его жизни и психологии оттиралось к кулисам, оттеснялось на второй план. Сейчас этот расчеловеченный подход ушел с авансцены, но в нашем обиходе и сегодня царит представление, что любовь социально второстепенна, потому что она личное, частное чувство.
А ведь это личное чувство сила планетарных размеров, один из самых мощных двигателей духовного прогресса земли. Любовь и именно в своем домашнем халате пробуждает в людях отношение к другому человеку как к себе самому. А такое отношение вспомним это опора всей человечности, строительный кирпичик гуманизма, первичная клеточка всей человеческой нравственности.
Любовь как бы лепит в нас модель истинно человеческого отношения к другим людям. Она настраивает по камертонам человечности не просто сознание, не просто верхние слои личности, а самые глубокие, самые безотчетные пружинки наших чувств и поступков.
В быту, в личной жизни она дает людям то, что в жизни общества дают высшие идеалы и высшие принципы общественного устройства, которые выстрадало человечество. Любовь как бы полпред этих идеалов, их дитя и в то же время один из родителей: она и пропитывается ими, и сама рождает их, внедряет их в жизнь.
И поэтому любовь одно из самых глубоких проявлений человечности, высший, видимо, вид понимания человека человеком, высший вид помощи человека человеку.
Сила этого чувства, возможно, только начинает вызревать в нынешнем человечестве; возможно, эту силу во весь размах ощутят на себе только наши далекие потомки. Но даже и сейчас, действуя лишь в малую часть своей силы, любовь стоит среди самых главных архимедовых рычагов, которые могут повернуть землю, вывести людской род из тьмы к свету. К сожалению, мы плохо понимаем стратегическую роль любви и наносим этим мамаев ущерб и любви, и себе, и всему ходу прогресса...
А теперь вспомним вопросы девушки самые первые в книге.
Считаете ли вы его чувство любовью?
По-моему, сказать, любовь это или влюбленность, пока нельзя. Чувство юноши живет только в его душе, оно еще не обнаружило себя в его будничном отношении к ней, не доказало, что оно такое.
Можно предположить, что у этого чувства есть важные черты любви. Оно глубоко переворотило его он избавился от чувства ничтожности, перестал считать себя рабом начальников и обстоятельств. Мало того, он начал чувствовать "страшную ответственность" за каждый свой поступок и за весь мир.
Пожалуй, только любовь может так резко менять человека, так перепахивать все его глубины. Впрочем, мы еще не знаем о его чувстве самого главного какое оно в его отношении к ней, стоит ли оно на я-центризме или на эгоальтруизме.
Может быть, это все-таки влюбленность, и она просто круто подняла его самомнение, сделала его в своих глазах мировой величиной? Конечно, шансов на то, что это любовь, больше, но, чтобы точно понять, что это за чувство, надо увидеть, какой он в своем поведении, в отношении к близким.
Верно ли поступила она, если он ей не нравился и его любовь ей не льстила?
Она, по-моему, поступила честно, в ключе своего характера. Если женские струны ее души не потянулись к нему, возможно, что ее интуиция уловила, что он не ее пара. Но, может быть, она поторопилась? Может быть, ее интуиция не принимала его таким, какой он был до перелома, и приняла бы таким, какой он стал после перелома? Конечно, ответить на это может только она сама.
Что теперь делать ему?
Это зависит от того, какой он. Если у него есть настойчивость и деликатность, ему стоило бы принять ее дружбу. Возможно, ее интуиция повлеклась бы к его новому облику, и со временем дружба могла бы перерасти в любовь. Может быть, этого и не случилось бы, но, мне кажется, это лучший выход и для него, и для нее.
|
|