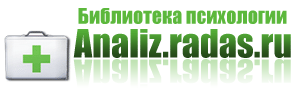| Навигация |
|
|
|
| Авторы |
|
|
|
|
|
|
|
| Карнеги Д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Домой :: архив публикаций (июль - декабрь 2004)
книги и литература: Отто Вайнингер. Пол и характер.
Часть вторая. Половые типы.Глава VII. Логика, этика, Я.
Известно, что Давид Юм подверг критике понятие "я". Результаты ее сводятся к тому, что понятие "я" является "пучком" различных "перцепций", находящихся в вечном движении, в беспрерывном течении. Правда, понятие "я" благодаря Юму, сильно скомпроментировано, но ведь он излагает свое воззрение с такой скромностью, в таких безупречных выражениях. Не следует, по его мнению, обращать внимание на некоторых метафизиков, которые склонны думать, что у них имеется какое-то другое "я". Он вполне уверен, что сам он лишен какого бы то ни было я, а потому необходимо предположить, что и все прочие люди не более, как пучки (о той паре чудаков он не решается что-либо высказывать). Так заявляет мировой человек. В ближайшей главе будет показано, как его ирония обращается против него же. То, что она получила такую известность, является результатом всеобщей переоценки Юма, виною чему Кант. Юм выдающийся эмпирический психолог, но его никак нельзя назвать гениальным, как это в большинстве случаев делают. Правда, немного нужно для того, чтобы стать величайшим английским философом, но и на это звание Юм не имеет ни малейшего права. И если Кант (несмотря на "параллогизмы") a limine отверг спинозизм только на том основании, что люди согласно этой теории являются акциденциями, а не субстанциями, и поставил крест над ним только в силу подобной "нелепой" основной идеи, то я, по крайней мере, не решаюсь утверждать, чтобы он совершенно не умалил похвал, выпавших на долю этого англичанина, если бы знал также и "Ireatise", а не ограничился бы только "Inquiry" трудом, в котором критика понятия "я" совершенно отсутствует.
Лихтенберг, который отправился в поход против "я" после Юма, был уже смелее последнего. Он, философ безличности, ставит на место словесного выражения "я думаю" "думается", как более соответствующее действительности. Для него "я" является открытием, честь которого по справедливости принадлежит грамматике. И в этом отношении Юм предвосхитил его мысли тем, что в конце своих рассуждений объявил весь спор о тождестве личности чисто словесным спором.
В новейшее время Э. Мах выдвинул теорию, согласно которой вселенная представляется компактной массой, отдельные же "я" являются пунктами сосредоточения наибольшей плотности этой массы. Единственно реальными являются ощущения, которые теснее связаны между собою в одном индивидууме, чем в отдельных двух индивидуумах.
Центр тяжести лежит в содержании, которое заключается во всех, даже лишенных всякой ценности (!) личных воспоминаниях. "Я" единство не реальное, а практическое. Ему нет спасения, а потому можно (охотно) отказаться от идеи индивидуального бессмертия. Тем не менее, нет ничего преступного в том, если мы всем нашим поведением обнаружим наличность у нас некоторого "я"; это даже в интересах дарвинской борьбы за существование.
Нам странно видеть, когда исследователь, вроде Маха, который принес огромную пользу не только в своей области в качестве историка и критика основных понятий, но и в биологической сфере оказал несомненные услуги, толкая ее на дальнейший путь исследования, совершенно оставляет без внимания тот факт, что все органические существа прежде всего неделимы, значит в каком-то отношении являются атомами, монадами (см. часть I, гл. 3), Ведь основное различие между живым и мертвым заключается в том, что первое всегда дифференцировано на неоднородные, тяготеющие друг к другу части в то время, как даже оформленный кристалл является везде однородным. Можно ведь было бы задуматься над вопросом, не чреват ли весьма важными для психической жизни последствиями этот принцип индивидуальности, а именно тот факт, что отдельные части органических существ связаны далеко не так как сиамские близнецы. Пожалуй, этот вопрос дал бы нам нечто более плодотворное в психическом смысле, чем Маховское "я" эта "зала ожидания" для ощущений.
Вполне правдоподобно, что такой психологический коррелат существует даже у животных. Все то, что животное чувствует и ощущает, обладает, вероятно, у каждого индивидуума особым характером, особым оттенком. Этот оттенок однако не является присущим всему классу, роду или виду, расе или семейству, больше того, он различается по мере перехода одного индивидуума к другому. Идиоплазма -физиологический эквивалент этой специфичности ощущений и чувств каждого отдельного животного. Это положение покоится на тех же основаниях, что и теория идиоплазмы (см. часть I, гл. 2 и часть II, гл. 1). Они именно и допускают возможность существования эмпирического характера и у животных. Охотник, имеющий дело с собаками, коннозаводчик, хорошо знающий лошадей, сторож, присматривающий за обезьянами, все они подтвердят наличность в поведении отдельных животных не только некоторых особенностей, но и известного постоянства. Так что весьма правдоподобно нечто, выходящее за пределы простого свидания ''элементов".
Но если подобный коррелат идиоплазмы действительно существует, если далее даже и животные обладают какой-то своеобразной особенностью в отдельных своих представителях, то эта особенность является далеко еще не тем умопостигаемым характером, который мы вправе приписать одному только человеку за отсутствием оснований приписать его кому-либо другому из живых существ. Умопостигаемый характер человека, индивидуальность, так относятся к эмпирическому характеру, индивидуации, как память к простому непосредственному узнаванию. В конечном итоге здесь несомненно тождество: в обоих случаях в основе лежит структура, форма, закон, космос, который остается равным себе, когда содержание меняется. Здесь должны быть вкратце изложены соображения, на основании которых нужно предположить наличность у человека номинального, трансэмпирического субъекта. Они вытекают из основ логики и этики.
В логике речь идет об отыскании истинного значения принципа тождества (также противоречия; для существа нашего предмета не имеют значения бесконечные споры, которые ведутся о преимуществе одного перед другим и истинной форме их выражения). Положение А = А непосредственно бесспорно и очевидно. Оно является элементарным мерилом истины для всяких других положений. Всякое противоречие этому положению мы признаем ложным. Например, когда в каком-нибудь специальном суждении предикат высказывает относительно субъекта нечто такое, что чуждо определяемому понятию. И следует только глубже вдуматься, чтобы обнаружить, что в конечном итоге это положение является законом всяких логических выводов. Закон тождества принцип истинного и ложного. Кто видит в этом положении одну только тавтологию, которая ничего не объясняет и нисколько не способствует нашему мышлению, тот пожалуй и прав, но он, очевидно, очень скверно усвоил природу этого положения. Такого взгляда придерживался Гегель и впоследствии почти все эмпиристы. А=А, как принцип всякой истины, не может являться какой-нибудь специальной истиной. Кто видит бессодержательность в законах тождества и противоречия, тот должен это качество прежде всего приписать себе. Он, пожалуй, надеялся найти в них особую мысль, обогатить ими свой запас положительных знаний. Но положения, о которых идет речь, не представляют собою особого познания или особых актов мышления. Они являются той меркой, которую следует приложить ко всем мыслительным процессам. Эта мера сама по себе не может являться актом мышления, который можно было бы сравнить со всеми прочими актами. Норма мышления не может находиться в самом мышлении. Закон тождества ничего не прибавляет к нашим знаниям. Он не увеличивает нашего богатства, он стремится заложить первый камень и дать основание этому богатству. Принцип тождества все или ничего.
К чему применяются принципы тождества и различия? Обыкновенно думают: к суждениям. Например, Зигварт формулирует закон противоречия следующим образом: "Оба суждения А есть В, А не есть В не могут одновременно быть верны" Он утверждает, что суждение: "необразованный человек образован" содержит в себе противоречие потому, что связанное "образован" отнесено к такому субъекту, относительно которого суждение implicite утверждает, что он "человек необразованный", это опять можно свести к двум суждениям: Х "образован" и Х -"необразован" и т.д. Психологизм подобного доказательства бьет в глаза. Оно ссылается на суждение, предшествующее по времени образованию понятия "необразованный человек". Вышеприведенное же положение, А не= А, претендует на истинность, безразлично, существуют ли существовали или будут существовать и другие суждения. Оно простирается на понятие "необразованный человек". Оно обеспечивает нам это понятие путем исключения всех противоречащих ему признаков.
Именно в этом состоит единственная функция принципов тождества и противоречия. Она конститутивна для специфической стороны понятия.
Конечно, такова их функция по отношению к логическому понятию, но не к тому, что мы называем "психологическим понятием". Правда, понятие всегда психологически заменяется общим созерцательным представлением, но это представление в известной степени содержит в себе момент специфичности понятия. Это общее представление, служащее психологически заменой понятия, не есть то же самое, что понятие. Представление может быть богаче (когда я думаю о треугольнике) или скуднее (в понятии льва гораздо больше содержания, чем в моем представлении о нем, в то время, как в случае треугольника совершенно наоборот). Логическое понятие есть та руководящая нить, по направлению которой следует внимание, когда оно извлекает из представления, замещающего понятие, только известные моменты, указанные именно этим понятием. Оно является целью и заветной мечтой психологического понятия, полярной звездой, к которой обращены упорные взоры внимания, когда оно создает конкретный суррогат понятия: оно закон по которому внимание делает свой выбор.
Нет мышления, которое наряду с логическими моментами не содержало бы в себе моментов психологических. Наличность одного только логического момента являлась бы чудом. Только тождество мыслит чисто логически. Человек же должен мыслить одновременно и психологически, так как кроме разума он наделен и чувственностью. Правда, его мышление направленно на логические, находящиеся вне времени явления, психологически же оно протекает в пределах определенного промежутка времени. Логичность играет роль высшего критерия, которым руководствуется человек в актах психологического мышления. Когда два человека спорят о чем-либо, они говорят о понятии, а не о тех совершенно различных индивидуальных представлениях, которыми это понятие заменяется у каждого из них. Понятие есть та ценность, с помощью которой измеряются разнообразные индивидуальные представления. Вопрос о том, как психологически возникает общее представление, не имеет никакого отношения к природе самого понятия. Понятие приобретает характер логичности это условие достоинства и прочности всякого понятия не из опыта. Последний в состоянии создать лишь неустойчивые образы, в лучшем же случае, общие представления весьма шаткого свойства. Сущностью специфичности понятия являются абсолютное постоянство и абсолютная однозначность, черты которые опытом не могут быть даны. "Критика чистого разума" характеризует эту сущность следующими словами: "это то, скрытое в тайниках человеческой души, искусство, загадку которого нам вряд ли удастся когда-либо разрешить и выставить перед глазами рода человеческого". Это абсолютное постоянство, эта однозначность не относится к метафизическим сущностям: вещи далеко не так реальны, как это представляется нам в понятии. Их качества логически являются присущими им постольку, поскольку они являются содержанием понятия. Понятие есть норма сущности не существования.
Я говорю, что кругообразный предмет обладает кривизной. Это суждение оправдывается моим понятием о круге, которое содержит в себе кривизну, как характерный признак. Понимать под понятием самую сущность, само по себе "существо'" будет неправильно: "существо" в данном случае обозначает или исключение всего психологического, или представляет собою метафизическую вещь. Понятие и определение понятия две вещи совершенно разные. Представлять себе их, как нечто однозначащее, запрещает природа определения, которое имеет дело не с объемом, а с содержанием понятия. Иными словами, определение дает только смысл понятия, а не сферу компетенции нормы, составляющей сущность понятия. Понятие, как норма, как норма сущности, само сущностью быть не может. Норма должна являться чем-то другим, но так как она не может быть сущностью, то она должна быть выражением некоторого факта бытия, ибо tertium non datur, причем этот факт раскрывает не бытие объектов, а существование известной функции.
Во всяком идейном споре между людьми нормой сущности является не что иное, как положение А = А или А = =не А. Это бывает в тех случаях, когда люди для разрешения спора прибегают к содействию дефиниции, определения. Сущность понятия, постоянство и однозначность, сообщается последнему только суждением А = А и ничем другим. При этом роли логических аксиом распределяются следующим образом: prmcipium identitatis поддерживает продолжительную неизменность и замкнутость понятия, в то время как principium conlradictionis проводит резкую границу между этим и всеми прочими понятиями. Этим впервые доказано, что сущность понятия выражается при помощи приведенных двyx логических аксиом, и не представляет собою ничего другого, как именно эти аксиомы. Положение А = А (или А = = не А) и только оно дает возможность возникновения каждого понятия. Оно является нервом своеобразной природы понятия.
Если я произношу само по себе положение А = А, то это не значит, что какое-нибудь специальное или даже всякое А, взято из действительного опыта и действительного мышления, равно самому себе. Суждение тождества совершенно независимо от того, существует ли действительно какое-нибудь А. Этим я, конечно, не хочу сказать, что это положение может быть мыслимо кем-либо несуществующим. Это обозначает собою только следующее: положение тождества мыслимо совершенно независимо от того, существует ли что-нибудь или кто-нибудь, или нет. Оно далее обозначает: если есть какое-нибудь А (все равно, существует ли какое-либо А или нет), то уже во всяком случае правильно будет утверждать, что А=А. Этим самым бесповоротно дается определенная позиция, какое-то бытие, а именно А =А, хотя вопрос о самом существовании А весьма проблематичен. Положение А = А утверждает таким образом и что нечто существует, но это существование именно и является нормою сущности. Мы не согласны с Миллем, который говорит, что это положение взято из эмпирического мира, что оно взято из небольшого или даже допустим, из большого числа переживаний. Дело в том что оно совершенно независимо от опыта. Его истинность непреложна по отношению к тому, фигурировало ли где-нибудь в опыте это А или нет. Никто не пробовал отрицать это положение, да и это представляется совершенно невозможным, так как отрицание чего-либо определенного всегда предполагает существование этого положения. Так как оно выражает собою бытие, не ставя себя в зависимость от самого факта существования объектов и ничего не высказывая об их бытии, то оно может выражать только бытие, отличное от бытия всех действительных и возможных объектов, иными словами, оно может выражать собою бытие того, что по самому понятию своему никогда не может стать объектом'. Таким образом, своей очевидностью оно раскрывает существование субъекта. К тому же это бытие, выраженное в принципе тождества, лежит ни в первом, ни во втором А. Оно лежит в самом знаке равенства А= А. Итак, это положение совершенно идентично положению: я есмь.
Психологически эта сложная дедукция легко упрощается, но без нее обойтись все же нельзя. Положение А=А выражает собою неизменность понятия А, ту неизменность, которая отличает А от всех прочих явлений нашего опыта. Следовательно, необходимо иметь нечто неизменное, к которому подобное суждение было бы применимо. Этим нечто может быть только субъект. Будь я сам вовлечен в круг изменений, я никак не мог бы признать, что А осталось равным себе. Если бы Я беспрерывно изменялся и таким образом терял свое тождество с самим собою, т.е., если бы мое Я превратилось в определенную функцию изменений то я никогда не в состоянии был бы противопоставить себя этому изменению и познать его. Для этого мне не хватало бы абсолютной системы координат, относительно которых только и можем мы определить тождество и фиксировать его как таковое.
Существование субъекта невозможно ни из чего вывести, это совершенно справедливо утверждает "Критика рациональной психологии" Канта. Но можно показать, где это существование строго и недвусмысленно выражено и в логике. Не следует это умопостигаемое бытие представлять себе в виде какой-то логической мыслимости, как это делает Кант, мыслимости, достоверность которой приобретается лишь впоследствии при помощи морального закона. Фихте был вполне прав, утверждая, что идея реального нашего "я" находится в скрытой форме и в логике, поскольку "я" совпадает с умопостигаемым бытием.
Логические аксиомы суть принципы всякой истины. Они основывают бытие и направляют наше сознание. Логика это закон, которому следует всегда повиноваться, и человек только тогда является самим собою, когда он вполне логичен. Больше того, он ничто, пока он не является воплощением логики. В познании он находит самого себя.
Всякое заблуждение вызывает ощущение вины. Из этого следует, что человек не должен заблуждаться. Он должен найти истину, а потому он может ее найти. Обязанность познания имеет своим следствием его возможность, свободу мышления и надежду на победу познания. В нормативности логики лежит доказательство того, что человеческое мышление свободно и что оно в состоянии достигнуть своей цели.
Относительно этики я выскажусь короче. Дело в том, что это исследование всецело покоится на Кантонской моральной психологии. В известной аналогии с ней, как видно было из предыдущего, проведены были последние логические дедукции и постулаты. Глубочайшая, умопостигаемая сущность человека не подлежит закону причинности и свободно выбирает между добром и злом. Она проявляется в сознании виновности, в раскаянии. Но никто до сих пор еще не в состоянии был иначе объяснить эти факты. Никого также нельзя было убедить, что тот или иной поступок он обязательно должен был совершить. В долженствовании и здесь лежит залог возможности. Человек отлично может понимать все причинные факторы, все мотивы, побудившие его к какому-нибудь низкому поступку, тем не менее он будет утверждать, а в данном случае особенно настойчиво, что его умопостигаемое "я" совершенно свободно, что оно могло поступить иначе, а потому вся вина за этот поступок падает на упомянутое "я".
Правдивость, чистота, верность, искренность по отношению к самому себе это единственно мыслимая этика. Существуют обязанности лишь по отношению к себе, обязанности эмпирического "я" к умопостигаемому. Эти обязанности выступают в форме двух императивов, которые способны нанести самое позорное поражение всякому психологизму: в форме логической и моральной законности. Нормативные дисциплины, психический факт наличности внутреннего голоса, который требует значительно больше того, что содержит в себе буржуазная нравственность это именно то, чего никакой эмпиризм не в состоянии удовлетворительно объяснить. Его противоположность лежит в критически-трансцендентальной, но не в метафизически-трансцендентальной методе, так как всякая метафизика является только гипостазированной психологией, в то время как трансцендентальная философия есть логика оценок. Всякий эмпиризм, скептицизм, позитивизм, релятивизм. психологизм и всякие другие имманентные методы исследования инстинктивно чувствуют, что логика и этика являются для них камнем преткновения. Этим объясняются вечно новые и неизменно безнадежные попытки эмпирического и психологического обоснования этих дисциплин. Об одном только забыли: испытать и доказать эксперименталь-ность principium contradictionis.
В своей же основе логика и этика совершенно тождественны: обязанность по отношению к самому себе. Они торжествуют свое единение в высшей ценности истины, отрицанием которой в одном случае является заблуждение, в другом случае ложь: истина же едина. Всякий этический закон есть одновременно закон логический и наоборот. Не только добродетель, но и разум, не только святость, но и мудрость являются задачей человеки: только оба члена и совокупности составляют совершенство.
Конечно, из этики, нормы которой обладают принудительным характером, нельзя строго логически вывести доказательство бытия, как из логики. Этика является, правда, логической заповедью. Логика ставит совершенное существование "я", как абсолютное бытие, перед глазами последнего. Этика же только требует этого осуществления. Этика принимает к себе логику в качестве собственного своего содержания, в качестве своего основного требования.
В том знаменитом месте "Критики практического разума", где Кант видит в человеке некоторый член умопостигаемого мира ("Долг! О возвышенное, великое слово...") можно с полным основанием поставить вопрос, откуда Кант знает, что моральный закон имеет исходной своей точкой личность? На это Кант отвечает, что он не может иметь другого более достойного происхождения. В дальнейшем положении он не доказывает, что категорический императив есть закон, данный нуменом. Для него уже эти два понятия, категорический императив и нумен, с самого начала связаны между собою самым тесным образом. Это именно и лежит в природе этики. Она требует, чтобы умопостигаемое "я" действовало свободно, вне влияний эмпирических наслоений. Только тогда этика в состоянии вполне осуществить бытие в его чистом виде, то бытие, о котором возвещает нам логика и форме чего-то все-таки существующего.
Как дорожил Кант своей теорией монад, теорией души! Он ставил ее выше всяком другого блага! Своей же теорией "умопостигаемого характера", которую совершенно ошибочно приняли за какое-то новое-открытие и в которой думали найти отличительный признак Кантовской философии, он хотел только выдвинуть ее научные ценности. Это ясно видно из тех пробелов, о которых мы говорили выше.
Долг существует только по отношению к самому себе. Это являлось бесспорным для Канта еще в ранней юности его, может быть, после того, как он впервые почувствовал импульс ко лжи. Миф о Геркулесе, некоторые места у Ницше и особенно Штирнера содержат в себе нечто родственное Кантонской теории. Но оставив все это в стороне, мы видим одного только Ибсена, которому вполне самостоятельно удалось прийти к принципу Кантовской этики (в "Брандте" и "Пер Гюнте").
Бесспорная истина, что большинство людей нуждается в Иегове. Только меньшинство это именно гениальные люди, совершенно не знают гетерономии. Иные оправдывают свои поступки или упущения, свое мышление и бытие, по крайней мере, мысленно, перед кем-нибудь другим, будь то личный, иудейский Бог или человек, которого любят, уважают, боятся. Только тогда они действуют в формальном, внешнем согласии с законом нравственности.
Вся жизнь Канта независимая, свободная до последних мелочей, является доказательством его убеждения в том, что человек ответственней только перед собою. Это положение он считал бесспорным пунктом своей теории, до того, что не предвидел возможности каких-либо возражений против него. И все-таки молчание Канта именно в этом месте привело к тому, что его этика до сих пор еще мало понята. А ведь она одна только стремилась к тому, чтобы строгий и властный внутренний голос не был заглушен воплем толпы. Она единственно интроспектив-нопсихологически приемлемая этика.
У Канта в его земной жизни было такое состояние, которое предшествовало "обоснованию характера". Это легко заключить из одного места его "Антропологии". Но момент, когда он представил себе это в ужасающе-ослепительной яркости: "Я ответственнен только перед собою! никому другому не должен служить! но могу себя забыть в работе! я один! свободен! я господин самому себе!" Этот момент означает зарождение кантовской этики, наиболее героический акт мировой истории.
Две вещи наполняют нашу душу удивлением и трепетом, причем тем сильнее, чем чаще и продолжительнее останавливается на них мысль: звездное небо простирается надо мною, и моральный закон во мне. И то, и другое я не должен искать или предполагать как нечто скрытое от меня в тумане, или лежащее в беспредельности, вне моего кругозора. Я вижу это пред своими глазами, непосредственно связываю это с сознанием моего существования. Первое начинается в том месте которое я занимаю во внешнем чувственном мире. Оно удаляет эту связь в необразимо великое, где миры встают за мирами, где системы возникают за системами, в бесконечные времена их периодического движения возникновения и продолжения. Второе имеет началом мое незримое "я" мою личность: оно переносит меня в мир, который обладает действительной бесконечностью, мир, ощутимый только разумом. С этим миром (и таким образом со всеми теми видимыми мирами) я познаю свою не случайную, как в том случае, но всеобщую и необходимую связь. Первый взгляд, брошенный на эту бесконечную массу миров, сразу уничтожает мое значение, как существа плотского, которое должно вернуть планете (простой точке вселенной) материю, из которой оно состояло, после того, как эта материя короткое время (неизвестно, как) была наделена жизненной силой. Второй взгляд, напротив, бесконечно возвышает мою ценность, как интеллектуальной единицы. Личность, в которой моральный закон открывает жизнь, независимую от моей животной сущности и от прочего чувственного мира. Он возвышает мою ценность, по крайней мере, постольку, поскольку это можно вывести из целесообразного определения моего существования этим законом, определения, не ограничивающегося условиями и пределами этой жизни, а уходящего в бесконечность."
Так понимаем мы "Критику практического разума". Человек во вселенной один, в вечном потрясающем одиночестве.
Его единственная цель это он сам, нет другой вещи, ради которой он живет. Он далеко вознесся над желанием быть рабом, над умением быть рабом, над необходимостью быть рабом. В глубине под ним где-то затерялось человеческое общество, провалилась социальная этика. Человек один, один.
И только теперь он один и все, а потому он содержит закон в себе, потому он сам закон, а не произвол. Он требует от себя, чтобы этот закон в нем был соблюден со всей строгостью. Он хочет быть только законом без оглядок и видов на будущее.
В этом есть нечто потрясающе-величественное: далее уже нет смысла, ради которого он повинуется закону. Нет высшей инстанции над ним единственным. Он должен следовать заключенному в нем категорическому императиву, неумолимому, не допускающему никаким сделок с собой. "Искупления", "отдыха, только бы отдыха от врага, от мира, лишь бы не эта нескончаемая борьба!" восклицает он и ужа сается: в самой жажде искупления была трусость, в желанно "довольно" бегство человека, чувствующего свое ничтожество в этой борьбе. "К чему!" вырывается у него крик вопроса во вселенную и он краснеет. Ибо он уже снова захотел счастья, признания борьбы со стороны другого, который должен был бы его вознаградить за нее. Одинокий человек Канта не смеется и не танцует, не рычит и не ликует: ему не нужно вопить, так как вселенная слишком глубоко хранит молчание. Не бессмыслица какого-нибудь ничтожною мира внушает ему его долг: его долг смысл вселенной. Сказать да этому одиночеству вот где "дионисовское" в Канте, вот где нравственность. |
|